Столяр А.Д. Светлой памяти друга — Александра Александровича Формозова // Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова 1928-2009. М.: Гриф и К. 2010. С. 13-46.
Случается так, но очень редко, что Судьба провоцирует случайную встречу незнакомых людей, для которых последующая пожизненная дружба представляет естественную необходимость. В пределах моего кругозора первым такой феномен осуществил Александр Формозов.
В моем археологическом онтогенезе исключительное значение принадлежало влиянию основного университетского наставника, профессора Михаила Илларионовича Артамонова и замечательного московского друга, Александра Александровича Формозова. Принадлежа к разным поколениям и представляя отличающиеся научные школы отечественной археологии, они никогда лично или письменно не общались. У каждого из этих, бесспорно, выдающихся русских ученых были свои жизненный путь, проблематика, результаты фундаментальных исследований. А зримо подобной у них была этическая доминанта всей деятельности, заключавшаяся в строгом бескорыстии и мужественном служении науке, не только в полной независимости, но и в активном противостоянии каким бы то ни было соблазнам карьеры. Именно этими началами обусловливалась известная действенность их объединенного этического примера для меня. Встреча с ними случилась на переломном рубеже жизни, вскоре после окончания Великой Отечественной войны и моего возвращения на истфак Ленинградского университета.
Начало дружбы
В апреле 1949 г. я (уже в «чине» начинающего аспиранта) в подвальной камералке ИИМКа (Ленинград) столкнулся с незнакомым юношей Александром Формозовым, студентом 3 курса истфака МГУ (Столяр, 2004). Эта, мимолетно-случайная, встреча получила драгоценное для меня почти шестидесятилетнее продолжение, которое, подчеркнем это, ни разу (!) не было омрачено какими бы то ни было осложнениями эгоистического характера.
Вскоре, в командировке в Москве, я ощутил дружественный прием Саши и его мамы Любови Николаевны при посещении занимаемого ими отсека в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре. Затем наступил антракт в нашем непосредственном общении. Однако тем же летом, спустя всего четыре месяца после случайного знакомства, Александр не словами, а действием представил совершенно иную, очень редкую форму активного осуществления дружбы. Участвуя в экспедиции Б.Н. Гракова, работавшей в Приазовье, он далеко не безразлично сохранял в активном поле памяти своего крайне не утилитарного (сиречь несовременного) мышления самое кризисное препятствие завершению моей первой научной работы. Споря в апреле, мы обсуждали мою объемную статью («Мариупольский могильник»), представленную к публикации М.И. Артамоновым. Согласно отзывам П.П. Ефименко и П.И. Борисковского, моя разработка отвечала требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и по проблематике была актуальной. Но для ее завершения и подготовки к защите необходим был источниковедческий анализ всей коллекции, которая в 1932 г. была передана Мариупольскому музею. Однако сам музей на почтовые запросы, как мои, так и отправленные ректоратом ЛГУ, упорно не отвечал.
В столь тяжелой ситуации совсем не безразличным для меня было искреннее сочувствие как моих учителей, так и добрых друзей, но самому преодолению тупика это не помогало. На этом фоне инициатива Саши представила не только новаторскую сторону дружбы, но и реальный путь выхода из кризиса. Более того, источниковедческий фонд археологии обязан акции А.А. Формозова сохранением материалов уникального некрополя неолитической эпохи. Не щадя сил, средств и времени, он со свойственным ему динамизмом добирается до Мариуполя 1 и появляется в музее буквально накануне уже подготовленного вывоза всей коллекции могильника, за исключением трех погребений, взятых монолитом (причина — в инвентарных книгах на них была проставлена большая цена), на свалку. Причина предполагаемого погрома также выясняется сразу же. Согласно высшей партийно-государственной воле бывший Мариуполь должен служить единственной цели — увековечиванию памяти А.А. Жданова. В подобной системе музей должен был приобрести «мемориально-ждановский» характер. А его основной зал был занят археологическими материалами, к тому же добытыми расстрелянным после третьего ареста (1937 г.) «врагом народа» археологом Н.Е. Макаренко. Результаты мариупольского «рейда» Александр сразу же сообщил мне в присланной развернутой справке. Тогда же в музее он подготовил почву, которая облегчила вскоре мою работу с коллекцией. Благо, что его «дореволюционным» отделом заведовала недавняя выпускница истфака МГУ Мара Борисова.
Незамедлительно отправляюсь в бывший Мариуполь. Примерно месячная работа над коллекцией и, соответственно, встреча с Марой Борисовой и директором музея Н.П. Клименко, вполне здравым человеком, даже с искоркой народного юмора. Документально авторитету памятника посодействовала и подаренная музею моя публикация («о нашем могильнике даже статьи печатают!»), сказалось и то, что в партийной пропаганде образ Жданова постепенно утрачивал свою актуальность, сменившись накалом ожесточенной борьбы с «космополитами». В общем, установку на сохранение этих материалов в сознании музейщиков удалось закрепить.
А вскоре, на рубеже 1951-1952 гг., в жизни нас обоих одновременно открылся период больших трудностей — «пришла худая пора», по Пушкину. У Формозова она определялась сложностями на пути в штат ИИМКа (Москва). Период моего неустройства, обусловленного национальностью, растянулся на несколько лет. По окончании аспирантуры истфака ЛГУ я безысходно «повис в воздухе». Защита законченной диссертации категорически исключалась, как и работа исторического профиля не только в Ленинграде, но и в провинции. А у меня на иждивении была мама. От нее я скрывал свое положение, так как это убило бы ее. В эти тяжелые годы самоотверженная помощь друга была в значительной мере спасительной.
Степень моей обреченности проявилась особенно зримо в провале двух попыток М.И. Артамонова как директора Эрмитажа зачислить меня в сотрудники Отдела истории первобытной культуры. Подписанные им приказы категорически кассировались «Большим домом», сопровождаясь суровым предупреждением и требованием срочной чистки под этим углом зрения наличного штата сотрудников.
А с трудом преодолевший порог московского ИИМКа А.А. Формозов, в условиях очень трудного для него постижения господствующей атмосферы и правил поведения (которым, заметим, он подчинить себя заведомо не мог), по-прежнему был озабочен моим положением, ориентируя свои поиски на практический характер решения. Первый вариант такого рода был представлен идеей нашей совместной работы в одном отряде на археологически интересной для нас обоих территории Приазовья в экспедиции Б.Н. Гракова.
Сразу же после ухода в небытие «вождя и отца всех народов» М.И. Артамонов с трудом добился постановки защиты моей кандидатской диссертации в ЛГУ на май 1953 г. (оппоненты Б.Б. Пиотровский и С.Н. Бибиков). Конец нелегкого периода временных и случайных «кормлений» был отмечен открыткой Александра от 7 июня 1954 г. В ней мой друг сообщил, что достаточно длительные переговоры с П.Н. Шульцем завершились его полным согласием на зачисление меня в штат руководимого им Отдела археологии и истории Крымского филиала Академии наук.
Для меня такое решение было добрым подарком, равно очень интересны были и Крым, и совершенно уникальная личность П.Н. Шульца 2, которому, к тому же, я был действительно нужен для выполнения срочных раскопок группы курганов на берегах реки Салгир, где начиналось сооружение необходимого Симферополю водохранилища.
Итак, с июня 1954 по март 1956 г. я состоял и. о. старшего научного сотрудника Крымского филиала АН УССР. По завершении раскопок всей курганной группы (погребальные комплексы эпох бронзы и раннего железа) с конца 1955 г. и в течение всей зимы 1955-1956 гг. я проводил (при постоянном участии А.А. Щепинского) полевое исследование зафиксированной ранее А.А. Формозовым многослойной мезолитической стоянки в Алимовском ущелье. Ее материалы существенно пополняли археологическую характеристику «коренной почвы» особого хода «неолитической революции» в Северном Причерноморье.
Несмотря на краткость (менее 2 лет), этот период, как неожиданный подарок, был существенным для расширения моего мировосприятия. А уже чуть ли не сакральной для меня была семикилометровая горная тропа от Алимовской «щели» до Староселья. Посещая раскопки А.А. Формозова, я был свидетелем его постоянной озабоченности совершенствованием раскрытия памятника и документации работ, при предельной честности и полном исключении каких бы то ни было упрощений. Причем, окружающая обстановка никак не исключала катастрофических опасностей. Постоянные вопросы, задаваемые бахчисарайцами, свидетельствовали об их уверенности в том, что экспедиция, конечно, ищет золото. Особую угрозу представляло распространение такой версии в туристской среде, поэтому экспедиция оставалась в навесе на ночное дежурство. Однажды и я там провел незабываемую ночь.
В общем, в Крыму я адаптировался полностью, был вполне удовлетворен и работой, и всеми условиями существования. Мысль о временности такого адреса и актуальность возвращения на Север как-то утратили свою злободневность. А тем временем колесо отечественной истории достигло отметки «критика культа личности». Ослаблением произвола в кадровой политике незамедлительно воспользовался М.И. Артамонов, направив мне вызов с требованием немедленного возвращения. Для меня столь резкий разрыв с Крымом был просто непосилен, и я попросил шефа дать немалую отсрочку для завершения начатых дел. Телеграфный ответ был в его духе (т. е. категоричным): «Разрешаю отсрочку на месяц, максимум два. Никак не более того». Поскольку всякие дебаты исключались, в апреле 1956 г. я приступил к работе в Эрмитаже научным сотрудником Отдела истории первобытной культуры.
А теперь в интересах хотя бы скупой документации начала институтского пути А.А. Формозова уместно обратится к выборке из нескольких его писем 1950-1957 гг.
Письмо от 23.02.1950: «Брюсов дошел до того, что сказал в докладе о находке в Египте колесниц из карельской березы… Увлекаюсь сейчас Рыбаковым, его курсом археологии древней Руси и этногенетическими теориями».
Логика такой оценки, при юношеском решении «гнуть свою линию», была основанием для возражения против назначения А.Я. Брюсова его аспирантским руководителем. В принципе, такая позиция была честной, но ее слишком демонстративное выражение привело к завязке той драматургической линии, которая прошла через полувековой срок его службы в Институте.
Открытка от 11.04.1952: «Диссертация вызовет общий отпор». Далее называются ученые как дружественные (С.Н. Замятнин, М.Е. Фосс), так и нейтральные (П.П. Ефименко, П.И. Борисковский) и попросту недобро¬елательные (С.Н. Бибиков, А.Я. Брюсов).
В письме от 17.10.1955, сообщая о выступлении на дирекции Института Л. Зяблина, заявившего о «необходимости освобождения Института от людей типа Мерперта и Формозова», он горестно восклицает: «Дай бог протянуть еще 5-7 лет и закончить начатые большие работы (Староселье и этнографические области каменного века)». И далее пишет: «Очень затруднено общение с редакторами Староселья Бадером и Крайновым. Рыбаков категорически настаивает на необходимости одобрения Бибикова». Особенно выделена «задача проработки необщественных личностей…». Завершается это письмо «стоящим на грани истерики», по его словам, вопросом: «и почему я внушаю такую ненависть, ведь, кажется, не делаю карьеры, никого не топлю, никому не перебегаю дорогу и тем не менее?..».
Письмо от 23.11.1956: «Гнусная атмосфера в ИИМКе угнетает выше всякой меры. В новом партбюро нет ни одного лица с научным весом». А в ответ на критический отзыв Формозова на действительно несостоятельную «итоговою» статью А.П. Окладникова по разделу палеолитоведения в сборнике ИИМК к 40-летию Октября он был назван «наглым мальчишкой, неучем, разрушителем археологических памятников.».
Письмо от 10.05.1957: «Совершенно переругавшись в ИИМКе, добился освобождения от редактирования книги Крайновым ценой ссоры с Рыбаковым, Крупновым и Брюсовым, в обстановке близких сокращений штата. Хладнокровность сохраняю».
И в столь сложной и острой для него ситуации, обеспокоенный моими, просто обыденными, трудностями, направляет мне целое наставление (письмо от 10.04.1957) о возможных приемах исключения житейских огорчений, которое завершается подчеркнутой фразой: «постарайся сам от всего открещиваться».
В целом же в этот начальный период службы раздражавшая А.А. Формозова критика осуществлялась, главным образом, по общественной линии. Это было типично для страны. По объективным показателям, дирекция не только не сдерживала, но явно склонялась к поддержке его карьеры. Это свидетельствуется предложением должности руководителя сектора палеолита, заметим, в связи со стремлением противопоставления ленинградскому центру. Молодость в этом случае как бы компенсировалась принадлежащим ему открытием в Староселье. Далее, разве не благо для него (в общем понимании) таилось в настойчивом предложении Е.И. Крупновым места начальника палеолитического отряда в Ливанской экспедиции (1957 г.)? Его ответом был категорический отказ. При продолжении давления дирекции он дал согласие на участие в этих работах, но только в качестве коллектора. В июле 1960 г. он отказался от командировки в Париж. Переживая вынужденный характер подобного решения, писал: «С точки зрения здравого смысла это глупо, но я, к сожалению, не здравый».
Он не был способен к мгновенному старту по свистку начальства, категорически отвергал самые соблазнительные предложения, если не был полностью уверен в своей подготовленности и способности отстаивать честь родной науки.
А чтобы полностью исчерпать тему зарубежных командировок А.А. Формозова, назовем поездку в Польшу (1965 г.), которую он оценил на «5 с плюсом». Видел в стране много интересного в жизни, науке и искусстве. Встречался с Костешевским и Антоновичем, был совершенно очарован полячками как духовным явлением.
С поры моего возвращения в Ленинград наше общение с А.А. Формозовым приобрело в основном дистанционный характер. Мой друг, генетически унаследовавший высокую эпистолярную традицию, одаривал меня письмами. Одно из них, датированное осенью 1956 г., заставило мысленно вернуться к раскопкам в Алимовском навесе. Оказалось, что А.А. Формозов отдал целый день инспекторскому анализу моих траншей на площади скального укрытия. Его существенные замечания были в полной мере учтены мною при подготовке краткой статьи о раскопках этого объекта (см.: КСИИМК. 1961. Вып. 84. С. 38¬44). Я же преимущественно ориентировался на телефон — и по причине лености руки, да и соблазна слышать его голос с придыханием, отмечающим раздумье.
Принимая как неизбежность новые условия, в которых наши встречи могли случаться благодаря командировкам (не предсказуемым заранее, обычно очень кратким и предельно загруженным целевой работой), я был уверен в аналогичной оценке Александра столь ограниченной перспективы. Вскоре же выяснилось, насколько я в этом случае ошибался, не сознавая еще приверженности его интеллекта к нестандартно трудным, более масштабным, волевым решениям. Прояснению его замысла предшествовали совершенно загадочные, подобные лозунгам призывы («На Кубань!», «На Кубань!»), повторенные в двух открытках весной 1957 г.
«Атака Кубани»
Тогда же из его писем я узнал, что на Кубани он проводил разведку еще в 1950 г., открыв несколько нижнепалеолитических комплексов. Они и составили источниковедческую основу его дипломной работы. Одновременно письмами и телефонным обсуждением была внесена полная ясность в характер предлагаемой инициативы — не только идейно очень значительной по цели, но и основательно (и в общем, и в конкретных частях) продуманной: предлагалось широкое сотрудничество на основе совместного осуществления многолетних экспедиционных работ в одном и том же ареале в соответствии с согласованными личными решениями. Без какого бы то ни было официального оформления А.А. Формозов значился бы по-прежнему начальником Кубанского отряда экспедиции Института археологии РАН, а мне предстояло провести по линии Эрмитажа утверждение его Северокавказской экспедиции под моим началом. Условия моего участия в предполагаемой «артели» (письмо от 25.04.1957), нацеленной на сохранение и развитие научной индивидуальности каждого из нас, были исключительно дружественными (вплоть до варианта принятия на московскую часть всего финансирования работ в случае временной задержки по линии Эрмитажа).
Летом того же года состоялся первый, предельно скромный, выезд «объединения» (состав — четыре участника) на Кубань. Основной целью такой «пристрелки» было уточнение территориальной привязки будущих работ в границах многообразного Предкавказья. Сначала разведка, в основном приуроченная к долине реки Псекупс (скромный «Нил» Адыгеи), выявила несколько пунктов с остатками плейстоценовой индустрии камня. На финал работ, когда к двум авторам идеи прибавился аспирант Г.Ф. Дебеца, антрополог Валерий Алексеев, пришелся аврал.
Под Адлером, у Нижнешиловского поселка, на правом берегу нижнего течения пограничной с Абхазией реки Псоу, мы провели раскопки небольшого останца неолитической стоянки. Срочность работ определялась очевидностью того, что в ближайшие полтора-два месяца осенним паводком уничтожение памятника будет завершено. При всей ограниченности информации, полученной при доследовании этого останца, благодаря исследовательской эрудиции А.А. Формозова Нижнешиловский комплекс вошел в науку как убедительное свидетельство определенных связей неолитической культуры Северного Кавказа с комплексами Восточного Средиземноморья.
Итак, вопреки нашему воодушевлению, начало собственно полевых работ в 1957 г. представляется более чем скромным. Столь камерная прелюдия логически оправдывалась тем, что другой масштаб работ еще предстояло подготовить, определив ряд существенных для старта позиций. Надо было, прежде всего, уточнить исходные географические рамки наших полевых изысканий, а затем, на основе разделения профессионального археологического труда, представить конкретно возможный профиль и специализацию как московской, так и ленинградской частей нашего содружества.
Первый вопрос решался без особых трудностей. В целом мы согласно ориентировались на территорию Адыгеи. Что же касается уточнения нашего археологического поля, то А.А. Формозов предлагал пренебречь археологически слишком «затоптанным» Майкопским районом, ориентируясь на разработку «археологической целины». В таком аспекте нам обоим представлялась достаточно привлекательной полоса предгорий, прорезанная долиной реки Белой выше станицы Каменномостской (аул Хаджох).
Что касается специализации двух составляющих задуманного «сообщества», то изначально на Александра, помимо повседневного действительного руководства всей нашей работой, приходилась реализация программы широкой археологической разведки (с установкой на исчерпывающий характер атрибуции всех археологических памятников). Его выбор, пожалуй, наиболее трудной и притом всегда первоочередной задачи полевой археологии был далеко не случайным и соответствовал творческим возможностям и уже накопленному опыту. Инстинкт и талант поисковика сделали его самодеятельным разведчиком древностей в юности, в условиях очень нелегкой в военную пору экспедиционной жизни в Северном Приаралье (1944 г.). В следующем году вышла его публикация, сохраняющая свое значение первого сообщения о памятнике выделенной в дальнейшем культуры.
В отношении целевой ориентировки ленинградской части содружества я не согласился с первым, слегка намеченным, предложением А.А. Формозова о выборе темы дольменов Кубани, небольшое обследование которых (побережье в районе Новороссийска) я выполнил прежде. Доводом служил, в основном, момент исключения в этом варианте самих раскопок. В итоге мы согласились с актуальностью выявления и масштабного раскрытия значительного энеолитического поселения, желательно как-то связанного с наследием Майкопского феномена. Именно такой аспект работ отвечал как исследовательской тематике, так и экспозиции ОИПКа Эрмитажа.
При этом уже в момент принятия последнего решения было предельно ясно, что доступный нам источниковедческий фонд такой объект представить не может. Поселение ключевого значения («зацепку», в терминологии А.А.) для фундаментальных многолетних раскопок еще предстояло открыть. А то, что это никак не гарантировалось самым фактом выезда в поле, наглядно показал первый же сезон. Обсудили перспективу нашего второго выезда, который по составу сначала ограничивался двумя личностями — им и мной. Правда, очень хотел поехать со мной знакомый студент-физик Алеша Ельяшевич, который уже немного потрудился в двух серьезных археологических экспедициях. С тех пор он летом страдал археологической «лихорадкой». А Кубань его особенно привлекала. Сообщил о возможном увеличении штата (аж до трех человек!). А.А. Формозов в трех письмах, без воодушевления коснувшись такого вопроса (копать нечего, следовательно, делом его не займем), предоставил мне полную свободу решения. И я, не ожидая ничего особенного от участия Алеши (его мечта — разведка в альпийских урочищах плато Лагонаки), разбавил им нашу компанию.
В начале полуторамесячного сезона 1958 г. было выполнено разведочное обследование Даховской пещеры (установлено эпизодическое посещение неандертальцами, при отсутствии выраженного культурного слоя). Основной операцией являлись раскопки небольших навесов Хаджох I и III на правом берегу р. Белой у южной окраины станицы Каменномостской. В них мощные средневековые горизонты (отложения кизяка — следствие содержания скота в природном укрытии) подстилались тонким культурным слоем с фрагментами керамики в целом энеолитического облика. Так, более чем скромно, точнее, совершенно критически для оценки замысла, казалось, завершится второй год. В подобной перспективе он мог стать и последним в мысленно сочиненной нами широкой программе. Так бы оно и случилось, если бы не вольные, никак и никем не предусмотренные действия студента-физика. Сразу же следует признаться в том, что и работа для Алексея нашлась и оказалась существенной. Особенно это относится к раскопкам навесов Хаджоха — вся однообразно утомительная расчистка их культурного слоя в течение всего светового дня выполнялась им. Заслужив уважение и симпатию А.А. Формозова, он общую ситуацию определял образно точно: «Один Балда при двух начальниках!».
Однообразная расчистка кизяка под палящим солнцем и пылью от проходящей рядом грунтовой дороги в Даховскую действовали угнетающе. Когда до конца срока экспедиции осталось несколько дней, Алешина надрывная усталость была слишком явной. Желая подбодрить юношу и зная его особое желание участвовать в археологическом поиске, я освободил его от работы с обеда до следующего утра, предложив побродить по самостоятельно выбранным соседним урочищам.
Он вернулся взволнованный через пару часов и предъявил мне свои находки — пару очень затертых фрагментов посуды и отщепы. На Кавказе такие находки, сами по себе ничего не говорящие, встречаются повсеместно. А на вопрос о месте их обнаружения он рукой махнул в сторону высоко расположенного над нами явно безводного плато, тем самым наглядно показав степень своего «невежества». Азбука археологических разведок древних поселений полностью исключала подобные угодья из поля внимания. Этот эпизод следовало просто забыть, если бы не сопутствующие ему педагого-этические обстоятельства. Так, на заданный Алешей вопрос, осмотрят ли «оба начальника» место его находок, я, естественно, ответил утвердительно. А затем в течение трех дней, перегруженных завершением работ, отчетливо замечал нарастающую остроту молчаливого ожидания.
В конечном счете, пришлось нам уже в конце светового дня приступить к этому подъему. То, что открылось на плато, потрясло нас. Мы были у очень древней крепости. Так «по вине» непросвещенного дилетанта нам пришлось задержаться за пределами срока, обозначенного в приказе, на две недели. В интересах первичного определения этого комплекса был заложен «в честь Алексея» первый раскоп (16 м2), давший большую коллекцию фрагментов посуды, индустрии камня, фаунистических остатков. Что же касается Формозова, то он, оставив нас в Хаджохе, в соответствии с первоначальным планом, отправился в одиночестве на разведку в горы очень неспокойной Чечни. Так в итоге сезона 1958 г. при настолько удручающих частных результатах основного срока работы, что, казалось, дело идет к краху всего нашего плана, в самом финале была открыта «зацепка» такого характера и масштаба, о каких можно было лишь мечтать.
С 1959 по 1965 г. основным (а точнее, единственным) объектом полевых работ Эрмитажной группы, теперь представленной действительной экспедицией, являлся комплекс Мешоко. В этих операциях постоянное участие принимал и А.А. Формозов (от обсуждения тактики и стратегии раскопок, постановки задач до, порой, участия в разборе культурного слоя). А в особенно ответственных ситуациях, как, например, при кризисных трудностях подготовки Полевому комитету Отчета о раскопках 1960 г., его прямое действие было буквально спасительным для дальнейшего продолжения раскопок.
В 1960 г. штат экспедиции включал 11 сотрудников (в том числе от ОИПК Я.В. Доманский). Площадь раскопов при мощности культурного горизонта до 1,7 м составила 160 м2. Полученный материал был очень значительным. Однако условия размещения экспедиции не позволили в самой Каменномостской провести хотя бы первичную камеральную обработку собранной коллекции. В итоге в Ленинграде я оказался в одиночестве перед всей массой пакетов с немытой керамикой, множеством каменных артефактов и костей. В моем рабочем плане время на камеральные операции вообще не предусматривалось. К тому же приказом по Эрмитажу мне было предписано срочное выполнение методической разработки для экскурсоводов (по экспозиции ОИПК). Всем этим начисто исключалась возможность подготовки отчета о проведенных раскопках, следствием чего неизбежно было бы лишение меня Открытого листа на работы 1961 г.
Зная о таком тупике, А.А. Формозов, несмотря на большую личную перегрузку, приезжает для подготовки краткого отчета в Ленинград. Добротное, а не фиктивное выполнение такого задания было обеспечено его полной осведомленностью о выполненных раскопках Мешоко, реальным знанием всех деталей этого сезона. Мое участие в этом случае ограничивалось чистовой подготовкой графической документации и отбором наиболее характерных артефактов. Выполненный им отчет был принят Полевым комитетом.
Однако и при таком, благодаря другу, выходе из кризиса все же от раскопок 1961 г. пришлось отказаться — добавка массы новых пакетов к еще не разобранному фонду сделало бы работу в небольшой камералке ОИПКа на чердаке Зимнего дворца невозможной и для меня, и для коллег. В конечном счете, в 1961 г. только Формозов работал за все «объединение», отдав свои силы особо любимому им индивидуальному виду полевого труда.
Именно одиночество в такой работе он считал важной посылкой исторического восприятия и оценки природной среды. А географически поле фундаментального обследования он определил лакуной на археологической карте — труднодоступным ущельем реки Губс. Эта разведка увенчалась важными открытиями. Прежде всего, к ним относятся пещеры Монастырская (в документации А.А. — Губский навес № 1) и Сатанинская (Губский навес № 7).
Рейд в мертвую зону, лишенную всех начал обеспечения человеческой жизни (снабжения, проживания и т. п.), был не только физически трудным, но и очень опасным для индивидуума, вооруженного только саперной лопаткой. В том, что эта «пустошь» служила укрытием для очень вероятного криминала, А.А. Формозова убедила «постель» из свежей травы в одном карстовом навесе. А в другом укрытии особенно впечатлили еще теплые камни погашенного очага. Думаю, что Саша, у которого уже был опыт индивидуальной разведки в горах Чечни, опасность такого вояжа представлял и именно поэтому свое намерение от всех друзей скрыл. Слава Богу, что в обоих случаях все обошлось.
С 1962 г. наши ежегодные экспедиционные работы возобновились, а их масштабы постепенно наращивались. Это стало возможным благодаря тому, что включенный в постоянный состав экспедиции Владимир Эммануилович Кунин прочно ввел в практику камеральной обработки систему «двух этажей». Первый из них (условно — разборно-санитарный) выполнялся на базе экспедиции. Отмечая эту, практически очень важную, заслугу В.Э. Кунина, мы посвятили его памяти выпущенную Эрмитажем монографию «Мешоко — древнейшая крепость Предкавказья» (2009).
По мере продолжения раскопок крепости Мешоко и постепенного осмысления уже установленных фактов памятник представлялся все более значительным, как бы выходящим за пределы элементарной необходимости жизни древних социумов, в чем-то причастным к духовному феномену древней культуры. В нас укреплялось чувство приближения работ к открытию специфического, совсем не бытового, комплекса. И такую «находку» в 1965 г. действительно дало продолжение раскопа V, заложенного, казалось бы, на совершенно пустой периферии цитадели — около контакта юго-восточного конца крепостной стены со скальным обрывом правого борта ущелья Мешоко. Таким уникумом явилось сложное святилище. Оно, как мне представляется, близко по характеру к ритуальным ансамблям, посвященным быку, в Месопотамии «жреческого» периода (III тыс. до н. э.). Естественно, что такое суждение только предположительно по характеру и требует строгой проверки, желательно — с участием исследователей культуры переднеазиатских цивилизаций.
Обстоятельства ущербного для науки срыва наших работ на ступени изучения уникального святилища древностью примерно в 6000 лет, на наш взгляд, заслуживают предания гласности. Подобную справку следует начать с масштабно драматического события в культурной жизни страны. В апреле 1964 г., за четыре месяца до юбилейных торжеств (200-летие Эрмитажа), Е.А. Фурцевой был снят с работы директор Эрмитажа М.И. Артамонов — «феноменальный, — по словам главного научного сотрудника Эрмитажа A. Г. Костеневича, — человек. неожиданно совершенно независимая личность. когда это было совершенно невозможным». Действительной причиной являлся категорический (и, заметим, уже не первый!) отказ от выполнения, по мнению М.И. Артамонова, позорящих страну приказов «высшей воли». В данном случае предписывалось немедленное «выбрасывание» из Эрмитажа уникальной коллекции живописи импрессионистов в ознаменование полной победы в искусстве СССР монопольной диктатуры так называемого «искусства социалистического реализма», возглавляемого президентом АХ СССР B. А. Серовым.
В начале 1965 г. я, согласно воле моего наставника, профессора М.И. Артамонова, перешел на преподавательскую работу доцента кафедры археологии истфака ЛГУ. В связи с таким изменением моего служебного положения предварительно приказами по Эрмитажу и ЛГУ была утверждена совместная в 1965 г. Северокавказская экспедиция под моим началом, при заместителе В.Э. Кунине (сотруднике ОИПК). Финансирование работ в основном принял на себя ЛГУ, при условии широкого включения студентов для прохождения практики. Утвержденное Эрмитажем финансирование было дополнительным. Такое сотрудничество существенно умножило ресурс полевых работ благодаря увеличению числа участников до 50 человек. Важным был и состав студенческого пополнения, который можно сейчас представить несколькими именами, получившими известность и научное признание (А.С. Козинцев, В.И. Калинин, В.П. Третьяков).
По окончании экспедиции в октябре 1965 г. весь научный багаж был отправлен в адрес Эрмитажа. Получен он был 25 ноября и выгружен в подвал Зимнего дворца. В один из дней, когда В.Э. Кунин готовился к подъему всей прибывшей коллекции, в нашу камералку буквально ворвалась не слишком обремененная культурой и, тем более, этикой заведующая ОИПК Г.И. Смирнова, именовавшаяся в нашем кругу «Салтычихой». Она объявила свой личный запрет на подъем этих материалов в отдел, поскольку, якобы, это совершенно сторонняя для Эрмитажа экспедиция. В условиях того смутного времени, да и нескольких последующих лет, было утопично рассчитывать на решение этого вопроса по существу (наша жалоба могла привести только к еще одной склоке).
В 1973 г. умер хранитель этого фонда, В.Э. Кунин, которого Смирнова недолюбливала, всячески отягощая условия работы ветерана и инвалида войны, юношей прошедшего через Сталинград, Курск и Польшу. В итоге, как это ни анекдотично, действительно очень важные материалы, венчающие итоги нашего экспедиционного содружества, уже на протяжении 45 лет (!) «хранятся» в ящиках, сложенных штабелем в подвале Зимнего дворца. Эти реликвии уже промыты в пакетах несколькими наводнениями Невы и, что особенно прискорбно, поражены активным развитием микрофлоры. Данное обстоятельство в принципе закрывает путь этим артефактам в музей до их специальной санитарной обработки.
А тогда, в середине 1960-х гг., самым прямым и катастрофическим для нас последствием этого запрета явилось неизбежное прекращение общего экспедиционного дела. Лишенные доступа к материалам последнего сезона, мы не могли представить обязательные отчеты Полевому комитету и, следовательно, категорически лишались Открытых листов.
Не буду вспоминать наши переживания. Их несколько смягчало самое главное. Это, пусть и частичная, но реализация идеи Александра Александровича, которая в условиях нашей действительности представлялась утопичной, выглядела почти младенческим мечтанием.
Неоспоримость фундаментального научного вклада в археологическое источниковедение Предкавказья удостоверяется вещественно большим фондом постоянного хранения Отдела Восточной Европы и Сибири (бывшего ОИПК). В него входят материалы раскопок и разведок 1958-1960 и 1962-1965 гг., предметом которых были следующие объекты: Мешоко (первичная крепость и два последовательных по времени неукрепленных поселения), поселение Скала (раскопки А.А. Щепинского при кураторстве А.А. Формозова), поселение у хутора Веселого (раскопки Е.Н. Черныха под руководством А.А. Формозова), поселение Ясенова поляна, Каменномостская пещера и навес Мешоко. При этом важно подчеркнуть достойное постоянство позиции Формозова, который, невзирая на противодействие дирекции ИА АН СССР, настоял на передаче всех коллекций Эрмитажу (открытка от 25.12.1963).
Значительные результаты семилетних работ «союза», основанного на столь «воздушном» начале, как идейно-этическое целеполагание, производят впечатление некого социального феномена. Становление этого «союза», его существование и развитие определялись инициативой и творческим потенциалом А.А. Формозова, для которого бескорыстное служение науке и культуре не являлось чем-то отвлеченным, виртуальным, а составляло саму сущность бытия.
За все годы совместных работ экспедиционная жизнь не была омрачена ни единым случаем конфликта либо личной обиды. Никак не выделяя себя, Александр собственным поведением наглядно утверждал естественную человеческую форму взаимоотношений. Диапазон его дружественности распространялся и на действенную помощь сотрудникам Адыгейского ИЯЛИ П.У. Аутлеву и П.А. Дитлеру по подготовке к изданию второго тома «Материалов по археологии Адыгеи» (1961 г.). Эти же качества способствовали, с начала работ на Мешоко и на все последующие сезоны, формированию постоянной и надежной рабочей «бригады». Она состояла из пяти женщин, живших на Лесной улице
(400 м от цитадели), которые работали под руководством природной казачки Екатерины Красули с полной отдачей, освоив элементарные операции археологических раскопок.
Для нас обоих, при всех неудобствах и неустроенности полевого быта, сама жизнь была безоблачной и радостной. Я понимал, что для Александра не менее существенным, чем археологические результаты раскопок, было осуществление замысла идейного союза. Понятно мне было и значение летней нервной «разгрузки» для восстановления эмоционального равновесия к следующим месяцам нелегкой для него службы в Институте. Такие моменты очень радовали меня. Но А.А. Формозов ни единым словом не выразил особого удовлетворения атмосферой совместных работ в общей экспедиции. Гонорар мне в этой части был отпущен в весьма впечатляющей форме. Обычно принятое в письме обращение «дорогой» заменялось особо личной формой — «брат», «братишка», «браток» и «друже». Сам факт таких вариаций свидетельствовал живую память сердца, которую я воспринимал как реликтовый отзвук древнего побратимства.
Студенты дополнили состав экспедиции только в ее последний сезон. Поэтому когда, много раньше, в экспедиции появился Женя Черных, археолог, да еще, что немаловажно, москвич, А.А. Формозов сразу же предельно озаботился его археологическим воспитанием. Вопреки уже установившейся традиции, он передал новичку для раскопок открытое им синхронное крепости Мешоко поселение у хутора Веселого. При этом само собой разумелось постоянное личное курирование этих работ А.А. Формозовым. Частично при моем участии, он добивался создания всех условий для успешных раскопок памятника. В программу обучения прочно вошли десятикилометровые «прогулки» наставника на раскопки «студента». Финал этого сюжета представлен их совместной публикацией (КСИА. 1964. Вып. 101). Атмосфера наших работ определялась общностью научных интересов, дружественным взаимным уважением, при сохранении каждым собственной индивидуальности. Все возникающие вопросы становились достоянием общего внимания, а особенности раскрываемых объектов обсуждались чаще всего прямо на раскопе.
Письменно-телефонное сорокапятилетие
С осени 1965 г. начинается «городской» период нашей дружбы, протяженностью более сорока лет, до горестного январского утра 2009 года. При разделяющих нас семистах километрах она была основана на средствах связи (переписка и телефон). Личных встреч, обычно длившихся два-три дня, за это время было не более 15-20, и, как правило, они приходились на мои командировки в Москву. При редкости таких свиданий на них уже не обсуждались преобладавшие ранее практические экспедиционные вопросы, и беседы приобретали новое, мировоззренческое содержание и, пожалуй, остроту. Шифр всего общения определялся Сашиной формулой, согласно которой «в основе нашего единения есть нечто невещественное, что, несомненно, исключительно важно».
Перечитывая по необходимости неоднократно странички этого очерка, я каждый раз терзался. Причиной была бедность моих литературных возможностей, не позволяющих с нужной выразительностью передать память о друге, и то, что в повествовании об Александре Александровиче Формозове слишком много Столяра. Как было бы славно сократить его, скажем, в три-четыре раза, но сие никак не получается в соответствии с самим каноном этой статьи. Обязательным условием данного посвящения светлой памяти друга всей моей зрелой жизни было принятие полного исключения общих словесных деклараций и представление всех сюжетов только фактами в их самом натуральном виде. Это, и только это, не позволяет мне сократить или, тем более, исключить Столяра.
Приобщение к Москве. Что же касается новой ступени познания друга, то наиболее значительным для меня было открытие в нем достойного сына земли Московии, ее настоящего патриота. До этого в Москве я несколько раз наблюдал его преимущественно в камерных условиях и реалиях интерьера его комнаты, частично связанных с историей семьи (Столяр, 2004. С. 438). Теперь же я видел Александра в ином олицетворении — на старых улицах центра столицы, когда при любой срочности, да и погоде, он предпочитал пешее передвижение, пренебрегая транспортом. С малолетства родные переулки сохраняли в его памяти старые названия и былые адреса домов и квартир, особо памятных в летописи истории страны и ее культуры. Необдуманное вклинивание современности в неповторимо ушедший мир он считал почти всегда ошибочным и ущербным. Так возмущал его поставленный на Гоголевском бульваре, полностью закрытый зеленым забором «шумный» дом, где после войны прожигал свою жизнь Василий Сталин.
Особенно запомнилась воскресная прогулка по берегам Москвы-реки осенью 1979 г., сопровождаемая рассказом о полученном от Д.С. Лихачева письме, поразившем его резким изменением почерка отправителя. Потом он, перешел к вызывающей широкую общественную реакцию дискуссии между Д.С. Лихачевым и историком А.А. Зиминым. Оправданной ему представлялась позиция идейно очень стойкого Зимина, с семьей которого, несмотря на ее «официальную опальность», он поддерживал дружескую связь.
В состоянии расслабленности отдыхающих горожан мы продолжали неторопливую прогулку до открывшейся на противоположном берегу Москвы-реки впечатляющей панорамы — там победно отрывался от земли, устремляясь ввысь, коломенский шатровый столп церкви Вознесения (1532 г.). Веками было признано, что она неповторимо, «вельми чудна». В этот момент впечатляюще изменилось лицо Саши. Оно буквально светилось, преобразившись волнующей гордостью от сознания связи через многовековую цепь поколений с этим впечатляющим знамением духовной истории Отечества. На протяжении всего созерцательного общения с памятником Формозов хранил полное молчание. При этом должен свидетельствовать, что я ни разу не замечал у него проявлений личной религиозности.
Вернувшись на улицы Москвы, мы продолжили разговор, сутью которого было просвещение ленинградца темой сокровищ средневекового Коломенского. А через несколько лет в одном из писем Саша обратился ко мне с просьбой, связанной с оценкой этой «цитадели духа» в Коломенском. Поясняя, он сообщил, что Ленинградское отделение «Музгиза» выпустило публикацию писем выдающегося французского композитора середины XIX века Гектора Берлиоза, где он вдохновенно касается Коломенского. Для некоторых уточнений этого сюжета ему необходимо связаться с составителями публикации — Е.Ф. Бротфин и В.Н. Александровой. Он просил навести справки, прежде всего, найти адреса и телефоны. Этот, казалось бы, очень частный случай передает важную органическую черту всех исследований А.А. Формозова — установку на энциклопедическое осмысление каждого вопроса, сколь бы трудным и внешне, казалось бы, несущественным, ни был предмет дополнительных поисков. Из преподанных мне Сашей уроков по прошлому Москвы помнятся Кривоарбатский переулок (семья С.А. Пушкина), «мир» Александра Островского и семейства Бахрушиных, «трассы» доктора Лодера. Несомненно, что одной из органических основ личности Формозова было, на мой взгляд, редкое сейчас глубокое знание и патриотическое восприятие прошлого Москвы. И это сыновнее чувство Отечества не наносило никакого ущерба отношению моего друга к культурам всего мира. Надо заметить, что столь масштабное, глубокое, переживание фундаментальных составляющих отечественной культуры было сразу же опознано моими друзьями-эрмитажниками (Ю.А. Русаков, Я.В. Доманский, Л.И. Тарасюк, А.М. Микляев). Тогда же была единогласно принята атрибуция его личности: «великий московский интеллигент» (автор — Я.В. Доманский) — явление, до этого нам в натуре не встречавшееся.
Повседневность, после 1965 года, «московского» бытия друга я представлял очень плохо. Расспросам его не подвергал, поскольку бытовая тема изначально устойчиво игнорировалась в общении. Никакие его сетования — ни устные, ни письменные — по такому сюжету до меня не доходили. Поэтому только теперь, мысленно возвращаясь в прошлое, я в полной мере представляю, насколько тогда вся его жизнь была трагически аранжирована сразу двумя тупиково-безысходными драматическими ситуациями (институтской и домашней).
Драматические коллизии. В Институте руководство полностью убедилось в несостоятельности замысла приручения и включения в свой актив, в общем-то, потенциально значительной фигуры посредством ее карьерного продвижения. При полной несовместимости нравственных догм дирекции и «много о себе понимающего» сотрудника назревание полного кризиса было несколько задержано до конца 1960 — начала 1970-х гг. периодом его большой экспедиционной деятельности на Кубани (1957-1965 гг.). А дома, начиная с 1967 г., полностью исключалась возможность необходимой релаксации. Здесь на протяжении 23 лет Александра встречала тяжело больная мать, Любовь Николаевна, состояние которой постепенно ухудшалось. Казалось бы, что неизбежным следствием многолетнего давления на психику могла быть только устойчивая депрессия. Однако этого, к счастью, не произошло.
С 1965 г., когда я был принят на штатную работу в ЛГУ, моя жизнь протекала спокойнее и устойчивее, нежели ранее. Но все же пришлось пройти через две кризисные ситуации, которые удалось преодолеть во многом благодаря по-прежнему неизменной помощи Александра Александровича.
Мой университетский наставник М.И. Артамонов, в принципе предоставлял своим сотрудникам полную свободу исследовательской ориентации. Такой принцип «свободной воли» отменялся редко, и лишь в тех случаях, когда он приходил к категорическому заключению о необходимой коррекции. А еще «на эрмитажной ступени» моей биографии, узнав о моем потаенном хобби (загадка происхождения искусства) и некоторых начальных наблюдениях, он всячески стимулировал эту активность. В ЛГУ этот нажим очень усилился. Спустя примерно пять лет с начала моей работы на кафедре, под новый 1970-й год, я услышал буквально телеграфный текст: «У меня осталось крайне мало времени, и я обязательно должен быть на Вашей защите. Поэтому она твердо поставлена по плану на апрель 1972 года. Ваша забота — в каком виде будет представлено исследование». И точка. Никаких дебатов.
Страшный цейтнот. Основной текст, альбом иллюстраций (помнится большая помощь студентов-вечерников), пропуски в литературе (особенно иностранной), беспомощность во многих практических вопросах. Особенно все осложнилось заявлением М.И. Артамонова на своем дне рождения (при моем отсутствии), что он решил незамедлительно передать мне заведование кафедрой. И это при троекратном категорическом моем отказе. О крайнем осложнении перспективы защиты подобной новостью, сразу же доведенной до Москвы Г.И. Смирновой, мне сообщил А.А. Формозов, который в эти тяжелые месяцы постоянно держал меня на телефонном «контроле». Тем временем прошли все сроки передачи списка оппонентов. Сочиняю его в последние минуты (Я.Я. Рогинский и два ленинградца). Когда звонит Саша, называю их имена и слышу буквально крик: «Ты совсем сошел с ума!» Успокоившись, переносит продолжение разговора на время после тех консультаций, которые он надеялся получить.
В целом, степень участия А.А. Формозова в обеспечении моего «докторского остепенения» решительно превосходит рамки обычного гуманизма. Начать с того, что именно в эти месяцы он принял решение отказаться от собственной защиты по сугубо моральным мотивам. А его научный ресурс явно превосходил мой актив. С другой стороны, мое исследование было совсем «неформозовским» по исследовательским принципам и методике. Он строгий классический позитивист, я — интуитивист, считающий, что по такой колоссальной теме иная стратегия реконструкции исключается, а результаты заведомо не могут превосходить уровень научной гипотезы.
Следующий директивный звонок А.А. Формозова: «в составе оппонентов необходимы два, минимум один академик.
Обеспечивай. Очень серьезна атеистическая атака. С помощью Шуры Львовича (т. е. А.Л. Монгайта), наверное, найдем личность достаточно образованную и пользующуюся авторитетом в верхах». Подводя итоги этого сюжета, должен подчеркнуть, что положительным завершением ситуации я опять же в основном обязан именно Формозову. Таким образом, вместо себя он «на доктора» как бы дружески подставил меня.
Наступавший относительно спокойный период оказался всего двухлетним. Назревание новой «разборки», в виде краткой дискуссии по моим публикациям и, главное, диссертации, с заведомо отрицательным заключением, было опознано именно им. Это он предупредил меня, но я не особо встревожился, поскольку объектом атеистической критики уже побывал (например, в спекулятивной статье А.А. Тудоровского «О гипотезе магического происхождения искусства» в № 9 «Вопросов философии» за 1963 г.). Совершенно иным образом, с тревогой, такое известие воспринял Р.Б. Климов, редактор моей книги «Происхождение изобразительного искусства». Рукопись и все материалы были переданы издательству «Искусство» в 1973 г. Высоко ценя свой труд, не желая работать впустую, редактор популярно пояснил мне тактику издательства в подобных случаях. В атмосфере того времени даже при частных претензиях «идейной» критики, опирающейся только на толкование цитат, а не собственно научные данные, издательство, перестраховываясь, расторгает договор с автором. Попутно выяснилось, что среди знакомых Климова есть люди, которым досконально известна личность инициатора дискуссии Р.Я. Журова.
Независимо от моих просьб, по собственной воле, Формозов, пользующийся немалым авторитетом у московских коллег-этнографов и основного состава редакции журнала «Советская этнография», добился, скажем так, «оздоровления данной инициативы». Реально это проявилось в том, что я заблаговременно получал все положенные материалы, а обсуждению был придан нормальный характер, более того, было обеспечено привлечение действительных исследователей генезиса исторического феномена искусства. В дискуссии, длившейся более двух лет, при небольших издержках дилетантизма (например, статьи Р.Я. Журова, В.А. Горчакова), творчески особо значительным оказалось участие Б.Б. Пиотровского, З.А. Абрамовой, A. А. Формозова и Ю.В. Кнорозова.
В повседневном же течении жизни каждая весточка от А.А. Формозова непременно включала искренний призыв: «Не ленись, работай!». Для меня такие обращения действительно были значимы и воспринимались по существу. Причиной тому была неизменная на протяжении десятилетий дружественная критика и доброе шефство над теми моими статьями, которые для публикации адресовались в Москву.
А тем временем в Москве мой друг с чувством глубокой неудовлетворенности своим научным бытием встретил 30-летие своей службы в ИА АН СССР (письмо от 6.02.1984). Последний, достаточно длительный, период был занят научным редактированием очерков по культуре неолита для тома основанной Б.А. Рыбаковым серии «Археология СССР». Авторами основных разделов были Д. А. Крайнов и Н.Н. Гурина. Очень многое отделяло его от этих фигур предшествующего поколения — здесь и общие мировоззренческие устои, и происхождение, и воспитание, и опыт жизни, а также представления о цели (как в общем, так и в данном конкретном случае) археологического труда и литературной форме представления результатов. Трудности необходимых контактов с авторами особенно усугублялись в отношениях с Н.Н. Гуриной из-за ее особой заносчивости. В отличие от моего очень поверхностного знакомства с Д. А. Крайновым, Н.Н. Гурину я знал досконально, начиная с экспедиции B. И. Равдоникаса в 1937 г. (Оленеостровский могильник). В 1970-е гг., когда она заведовала ЛОИА АН СССР, был вынужден обстоятельствами порой представлять срочные отзывы на едва законченные работы, иногда в рукописном состоянии, до их совершенствования постоянным редактором Бочавер. В изначальном виде эти работы порой несли на себе удручающий налет малограмотности. В целом, Н.Н. Гурина представляла собой выразительный портрет грубой и примитивной сталинской выдвиженки. В этом свете читатель вполне может представить всю пессимистическую беспомощность моего друга. Его аргументированные, очевидные замечания вызывали раздражение, а то и возмущение «классика советской археологии», как она себя нередко именовала. Ожидать же какого бы то ни было содействия со стороны дирекции ему, при постоянно ухудшающихся отношениях, конечно, было абсолютно утопично. В таком, отнюдь не вдохновенном, состоянии духа он приближался к острейшему конфликту с двумя академиками — Б.А. Рыбаковым и А.П. Окладниковым.
Б.А. Рыбаков и А.А. Формозов: драматургия отношений. При моем, сугубо внешнем, восприятии Б.А. Рыбакова, я видел в нем несомненную историческую образованность и стойкий исследовательский интерес к проблемам археологического изучения сложных этногенетических процессов. Должность главы археологии всей огромной страны, по-видимому, его устраивала, так сказать, пожизненно. Очевидна была постоянная увлеченность Б.А. Рыбакова руководством, выбранным им «большим» делом (многолетнее фундаментальное издание источников). В то же время, во всем сказывалась строгая «советская выделка» этого руководителя, со всеми ее жесткими ограничениями (непререкаемый диктат партийных догм, а то и даже сиюминутных установок пропаганды) и преимуществами.
Что касается А.А. Формозова, то вполне естественной представляется постепенная утрата, по мере знакомства юноши с прозой археологического труда, яркости воспоминаний об исторических лекциях декана. В целом наиболее вероятно, что в начале их длительного сосуществования в стенах одного Института они были далеки друг от друга. Правда, как-то Саша вспоминал, что изредка директор обращался к нему в особо личной форме («мы же с Вами из одной конюшни», «одного стойла»), чем, по-видимому, как-то отражалась мысль о родственности по происхождению. Документально же можно отметить только соавторство в одной краткой рецензии. Не с директором, а с его ближайшими сподвижниками (в основном, Е.И. Крупновым), скандалы, конечно, случались. И неоднократно.
На первое двадцатилетие службы А.А. Формозова приходится инициатива и руководство очень значительной и существенной по результатам полевой деятельностью, удостоверявшей его исключительный талант полевого разведчика. Отнюдь не рядовой интеллектуальный ресурс документируется тем, что эти годы отмечены широким диапазоном аналитически совершенных исследований, серьезно обогативших источниковедение первобытного отдела по ряду ключевых проблем. Если же говорить о служебном положении, то надо признать, что оно было не только стабильным, но и могло способствовать успешной личной карьере. Тем не менее, конечный конфликт «с самим» был, несомненно, неизбежен. Причиной была полная несовместимость этических заповедей. Вполне вероятно, Б.А. Рыбаков ощущал свою незыблемую наделенность особыми правами, включая, насколько возможно, неприкосновенность для критики. И такое табу наверняка было абсолютным в границах Института.
При таком режиме тактичные, в нормах научной дискуссии, замечания А.А. Формозова по предложенной в докладе директора атрибуции известного барельефа из с. Буш, хорошо известного моему другу в натуре, явились чем-то экстраординарным. Более того, принципиально никогда не думающий о последствиях своей прямоты, он опубликовал этюд на эту тему (1968 г.). Все это сработало сильнейшим детонатором в разрыве отношений с Б.А. Рыбаковым и его окружением. В результате оказалась срочно необходимой операция под названием «железно поставить на место», с театрализацией — для воспитательного эффекта — акта «под единую волю коллектива».
Подготовку такой экзекуции директор начал с удивительно сердечной беседы с А.А. Формозовым, благодарил его от имени Института за работу и настойчиво просил дать исчерпывающую характеристику всем сотрудникам (с особым акцентированием недостатков) для решительного улучшения их работы. Саша благости его намерений ни на
грош не поверил, но просьбу исполнил, считая иную позицию недостойной трусостью, и отпечатал за свой счет 100 страниц анализа и рекомендаций. Получив их, директор размножил текст и раздал его по отделам для всеобщего изучения. Большая часть читателей нашла там нелицеприятную, но в основном верную личную диагностику. После этого собрали чрезвычайное производственное совещание с тщательно подготовленными выступлениями. Действо началось с деклараций, изобличающих злостную клевету А.А. Формозова на Институт и его достойное руководство. Затем последовало несколько неопределенных суждений типа «надо признать, но нельзя же не осознать». И вдруг — неожиданный поворот, который случается иногда, когда «на миру» внезапно просыпается совесть. Выступления приобретали все большую резкость в критике руководства, и устроители нашли лишь один способ спасения — ссылаясь на позднее время, заседание прекратить, при условии его обязательного продолжения в ближайшие дни. Однако мероприятие, которое всем своим ходом предрекало поддержку А.А. Формозова, так никогда и не состоялось. Разумеется, лично для него это была «пиррова победа». Данный эпизод я привожу, вспоминая взволнованный рассказ Саши о необычно важном для него событии истории Института («бой с Рыбаковым» в 1973 г.). Совсем не надеясь на сохранение хотя бы протокола заседания в архиве, я уверен, что в его собственных воспоминаниях этот сюжет документируется в полной мере.
В одном из писем этого же года А.А. Фор¬мозов сообщил мне о кратком разговоре «на лестнице» с Б.А. Рыбаковым, который подтвердил постоянное телефонное общение двух главных академиков страны, а также представленность «темы Формозова» в этих переговорах. Очевидно, что оба собеседника нуждались в информации, которая могла бы служить защите от необычно прямой в то время критики со стороны «московского правдолюбца».
В интересах уточнения всей ситуации следует подчеркнуть, что основным объектом проблемной критики А.А. Формозова был не Б.А. Рыбаков, а А.П. Окладников. Так, в статье «Всемирно-исторический масштаб или анализ конкретных источников» (СЭ. 1969. № 4) Формозов определяет его «методологию» как «вариацию спекулятивного агностицизма». Столь же негативно он оценил псевдосенсационные открытия В.Е. Ларичева. Будучи любимым учеником новосибирского академика и вдохновляясь всей атмосферой научной безответственности и свободной (иначе — внеисторической) фантазией, последний переполнил СМИ рекламными сообщениями об открытой им «древнейшей цивилизации планеты» на стоянке Малая Сыя в Хакасии. Крайне насущным было решительное разоблачение этой мистификации как демонстрации предельного невежества, позорящего отечественную науку. Пробиться в СМИ удалось только благодаря помощи С.А. Плетневой, которая держала тогда на своих плечах выпуск журнала «Советская археология». В итоге в № 4 за 1981 г. появилась статья М.П. Грязнова, А.Д. Столяра и А.Н. Рогачева с приложением заключения квалифицированной экспертизы, также категорически отрицательного. Стойкое противостояние афере В.Е. Ларичева укрепляло общность позиции А.А. Формозова и моей.
Находясь в острой для него обстановке в Институте, Александр дружески защищал меня, действительно порой страдающего от «известной наивности и излишней доверчивости» (Формозов, 2006. С. 9), от попытки соблазнения очень заманчивыми предложениями Б.А. Рыбакова. Впервые неожиданное внимание к моей персоне выразилось в «одаривании» (с дружественной надписью) книгой «Язычество древних славян» (1981), где были представлены положительные оценки одной из моих статей. После выхода монографии «Происхождение изобразительного искусства» в 1985 г. (12 лет рукопись лежала в издательстве, что в полной мере удостоверяет небойцовский характер ее автора) последовало предложение Б.А. Рыбакова об организации постоянного творческого семинара под нашим общим руководством. Все последующее достоверно передают письма Александра Александровича Формозова.
Письмо от 12.12.1985: «Вскоре после твоего отъезда состоялось заседание дирекции ИА, совместно с партбюро, для выработки основных направлений Института до 2000 года. Тут Рыбаков сказал, что еще в 50-х го¬дах он намечал как основное направление Института изучение первобытного искусства, чего, разумеется, не было. Тема была начата, но злостно сорвана Формозовым. В результате тема от нас ушла. Пример — книга Столяра. Как всегда у деятелей такого сорта (национальности? — А.С) она имеет внешне прекрасный вид, а внутри пуста и сомнительна. Формозов тут тоже руку приложил. Надо отвоевать эту тему. К сожалению, без Формозова не обойтись, но надо поставить его на место, заставить заниматься тем, что нужно Институту, а не одному ему. Коллектив должен в этом помочь».
А.А. Формозов был особенно удручен тем, что ни один из присутствовавших на этом «сеансе» его ни о чем не предупредил. А выяснил он все это в итоге очень тяжелого разговора с глазу на глаз с Б.А. Рыбаковым. Как оказалось, тот хотел втянуть его в свои планы, но повел весь разговор так грубо, что вызвал ответное раздражение. Кончилось все словами Рыбакова: «Вы меня всегда ненавидели, а теперь встали на путь мести и шантажа».
Через несколько дней, встретив Марианну Казимировну (жену А.А. Формозова), Б.А. Рыбаков, по существу, извинился, сказав: «Формозов честный человек, но крайне тяжелый. Надеюсь, что мы как-то договоримся». Финал письма: «со здоровьем очень плохо, впереди много трудного, критическое положение мамы (едва держится на ногах), подумываю о расставании с Институтом». Прочитав это, я сразу же, встревоженный, связался с Сашей по телефону. И в ответ на его фразу: «общаясь с Рыбаковым, не оберешься сраму», — принял твердое решение исключить всякие связи с этим «классиком». Так горький опыт службы А.А. Формозова в Институте оказался для меня счастливым.
«Ахиллесова пята» Александра Александровича. Однако уже приближающийся к финалу очерк слишком однообразен по исключительно позитивному представлению друга во всем течении его сложной жизни. И, наверное, вполне уместно остановиться на внешне неожиданной, частной особенности личности Формозова, изредка проявлявшейся с начала аспирантского старта и вплоть до конца жизни. В виду имеются его малоуважительные, а то и сугубо отрицательные, краткие суждения об отдельных личностях. Такими эпизодами создавались предлоги для наделения характера А.А. Формозова совсем не свойственными ему реликтами безответственности и зазнайства. Несмотря на частность таких проявлений, для меня они были неприемлемы в принципе. Тем более что в составе мишени его критики значились по меньшей мере пятеро уважаемых мною людей со стажем нашего знакомства от 25 до 73 лет.
Наши принципиальные расхождения в этой части никак не маскировались, отражаясь и в публикациях. Так в отношениях буквально солнечной по ясности дружбы возник «овраг» — единственный, но очень значительный. Опасаясь каких-то отрицательных последствий, он с тревогой пишет (письмо от 17.10.1995): «Вроде бы раньше мы с тобой такие разногласия благополучно переживали». А далее сообщает, что задержал сдачу в печать новой «реплики по Равдоникасу», с тем чтобы предварительно с этим текстом познакомить меня.
В письме от 15.02.2005 в ответ на мое замечание о возможных отзвуках надменности в только что выпущенной книге Формозова «Человек и наука» он посылает мне изложение теоретических основ своих суждений. Но продолжение им такой защиты своей линии было излишним, поскольку уже в письме от 30.05.2005 он полностью осуждал сам старт подобной активности. Всю эпопею разоблачения «брюсовщины» он определяет бестактностью «мальчишеского задора». Следовательно, всякая сторонняя критика сего сюжета утратила актуальность.
В итоге, касаясь этой, скажем так, незначительной и чужеродной для его духовного склада издержки, казалось бы, более чем уместно обратиться к принятой формуле (aut bene, aut nihil). Я же в этом сюжете с позицией умолчания согласиться не могу в связи с кричащей противоречивостью этой слабости самой органике А.А. Формозова. Память о нем нуждается не в простительной «льготе» усопшему, а в раскрытии основы (точнее, наверное, происхождения) подобного парадокса.
Единственно известный мне опыт объяснения таких осложнений в Сашином сознании принадлежал мудрейшему Я.Я. Рогинскому, очень хорошо знавшему и Александра с малолетства, и его родителей. Он считал, что так сказывался генетический реликт их принадлежности к классическому церебральному типу, у некоторых представителей которого до их зрелости, а то и позднее, сохраняются отзвуки начальной искренности и правдивости. Полагаю, что, отдавая должное исследовательскому дальновидению Я.Я. Рогинского, такое суждение следует принять как исходное генетическое звено объяснения последующего онтогенеза. Александр вошел в реальный, отнюдь не сказочно-светлый, мир с абсолютной верой в то, что всегда и во всем необходимо стойко руководствоваться диктатом правды и добра.
Предположительно можно выделить три фактора, которые крайне ограничивали адаптацию А.А. Формозова к ультимативным требованиям окружающей актуальной повседневности. Если кратко, то это его генетический реликт; отчуждение, а затем и развод (1949) родителей; отсутствие достойного наставника. Впрочем, и этим объяснение ахиллесовой пяты Формозова никак не исчерпывается. Здесь сказывался, без сомнения, сам характер его мировосприятия. Совершенно ясно, что вся служба в Институте, вместе с большими и частными ее ситуациями, помимо его воли откладывалась в его подсознании. Этот фактор был не единственным и, в принципе, даже не определяющим. Была и другая, буквально истощающая, сфера его повседневных тревог и забот, которая почти для всех окружающих оставалась неизвестной. Это, была круглосуточная, на протяжении 23 лет, забота о маме, которая категорически никакого стороннего обслуживания не принимала. Поскольку меня с Сашей роднил характер отношений к родительнице, он раскрывал этот сюжет в письмах.
Постоянное умножение двух сливающихся «драматургий» (институтской и домашней) держало его в состоянии непрерывно нарастающего стресса, подходящего к границе аффекта. Но сам Формозов старался свои недуги преодолеть собственными силами и никогда ни на гран не отказывался от своей ответственности за все им сделанное.
Позволю себе завершить этот сюжет впечатлением, что при такой катастрофической нервной коллизии совершенно непостижимыми представляются и фундаментальность, и необычный диапазон его вклада в науку. Думаю, что решающим фактором в жизни А.А. Формозова, вопреки всем препятствиям, являлся исключительный потенциал его творческого интеллекта.
В человеческой круговерти. Несомненный характер высокой нравственной подосновы А.А. Формозова в женском «отсеке» человеческой круговерти для меня очевиден и однозначен. Столь же редкий в наше время альтруистический настрой был обычен в массе его контактов с мужским «населением». Первое наблюдение в этой части относится к самому началу наших работ на Кубани. Помню, как А.А. Формозов появился вместе с мужчиной, назвавшимся Михаилом Михайловичем Успенским. Их отношения буквально светились теплотой, с некоторым налетом грусти. Последнее, наверное, объяснялось тем, что М.М. Успенский приехал на пару дней в связи с археологическим прощанием. Будучи большим мастером документальной съемки, он был вынужден сменить место работы, предпочтя ИИМКу Институт космических исследований.
А в стенах ИИМКа жила долгие годы его доверительная дружба с В.Н. Кухаренко, по-жизненно сохранившим верность заповедям честной крестьянской этики. Как знаменательно, что при самых критических осложнениях в жизни (угроза увольнения в 1957 г.) он находил действительную помощь только у А.А. Формозова как «единственного близкого советчика». Такой же искренностью отличались его взаимоотношения с рафинированным гуманитарием, потомственным интеллигентом Н.Я. Эйдельманом.
Аналогичные отношения удостоверяются и дружеской работой в нашей общей экспедиции на Кубани. А также удивительным, порой многочасовым, терпением Формозова при общении с дремуче невежественными «аматорами древности в Предгорьях Кавказа» (например, с К.И. Гумилевским в «Овощесовхозе № 6, Адлер 1957 г.»).
Между тем история неумолимо катилась к концу последнего столетия второго тысячелетия, погружая страну в атмосферу острейшего кризиса и разброда с неведомым исходом. Именно в этой обстановке А.А. Формозов, обычно в письмах никак не выражавший чувства к Родине и тревогу за ее будущее, был вынужден раскрыть себя. Этими переживаниями пронизано его письмо 28 августа 1991 г. Оно посвящено трем памятным всей стране дням, проведенным им вместе с супругой Марианной Казимировной у стен Белого дома. Замечательно искреннее, это письмо сразу же вызвало в моей памяти вдохновенное почитание монумента в Коломенском.
Староселье. Эта тема, в свете характера и задач этого очерка, документально представлена материалами адресованных мне писем друга. И все же сначала нелишне общее замечание по сюжету об одной из еще не упомянутых особенностей А.А. Формозова как археолога.
По существу, в международной практике археологии, в том числе и в нашей стране, имеет место специфически деловая стратегия раскопок значительных памятников, напрямую выгодная предпринимателям от археологии. В счастливом случае обретения такого объекта он в деловом смысле уподобляется хорошей нефтяной скважине. Раскопки, популяризуемые СМИ, коммерчески рассчитываются на много лет вперед. Мой друг, как следует из далее сообщаемых фактов, был совершенно чужд такой деловитости.
Навес Староселье в Крыму, под Бахчисараем, расположенный всего в 1,5 км от Ханского дворца, был затоптан многими сотнями ног. Не раз бывали здесь и археологи, но нужна была интуиция разведчика уровня А.А. Формозова. И, вместе с тем, он совсем не собирался осесть на этой «площадке», так сказать, «приватизировать» памятник в интересах своей популярности.
Вот письмо давностью в 50 лет (17.09.1955), отправленное в связи с ожидаемой на крымской земле нашей встречей следующим летом. Формозов планирует разведку в районе Кабази (на Альме), а затем у Тепе-кермен. «Неясно, будет ли продолжаться Староселье. Я предложил копать пещеру Марьяне Гвоздовер, обещая свои консультации… У меня лично нет особого желания копать С., чтобы не путаться в поднятой Бибиковым грязи, чтобы не бросать в этой связи тень на первоклассный памятник. Помимо этого, я считаю, что археологически стоянка ясна, и надо ее копать лишь в поисках останков людей, что лучше всего сделает Музей антропологии… Если Мара не поедет, Староселья в этом году не будет».
Первое сообщение о старосельском криминале в письме от 29.03.1994: «Недавно вернулся из Парижа Н.О. Бадер и привез мне сообщение французских археологов: Украина продала американцам пещеру Староселье, и некий Маркс из Даллаского университета провел там раскопки и вывез коллекции в США. Как тебе это нравится? Не знаю, как реагировать».
Письмо от 27.04.1996: «В “Current Anthropology” 20 страниц посвящено смешиванию меня с грязью. Опубликован мой протест — полколонки. Начальник американской экспедиции Э. Маркс пишет: я предупреждал редактора, что если он опубликует письмо, научная репутация А.Ф. будет перечеркнута раз и навсегда. Далее 54 колонки текста Чабая, Демиденко, Усика, Ранова. Все кляузы Бибикова извлечены на свет божий и перепечатаны. Я и обокрал несчастного Кацура и присваиваю себе раскопки, которые вела Гвоздовер. И копал я плохо… Ничего не сделал для того, чтобы выяснить условия захоронения ребенка… Наконец, оказывается, я так основательно засыпал раскоп для того, чтобы скрыть свои фальсификации и помешать их разоблачению и т. д. Матюшин уже заявляет доклад “А.Ф. как фальсификатор науки”. Никто из моих коллег за меня в печати не вступился. А ответить сам за рубежом я не могу. Нужен текст — до листа по-английски, а перевод дорог; гарантии же, что кто-нибудь будет печатать, нет никакой. У себя? Но от редактора журнала Гуляева я слышу: “Вы ссорите нас с американцами, вы ссорите нас с украинцами”…».
Все приведенное читается с содроганием. Непостижимо, что специалисты по палеолиту, включая и петербургский отдел, в течение года знали об этой авантюре, но ни словом не сообщили о ней А.А. Формозову, потворствуя тем самым позорящей нас провокации, а то и участвуя в ней.
Финал всей этой провокации ознаменован полным провалом попытки «разоблачения» палеоантропологического характера этого открытия (наиболее выигрышная форма определения его «жившим недавно татарчонком»). Исследование памятника было в полной степени квалифицированным и ответственным. Что же касается антропологической атрибуции погребения, то на рубеже веков благодаря совершенствованию естественных методик, в том числе по разделу определения абсолютного возраста, получены решающие уточнения. Сейчас захоронение в Староселье, открытое А.А. Формозовым, оценивается как особо важное открытие, относящееся к группе первых мустьерских архаических сапиенсов Европы, оставивших здесь охотничье стойбище древностью в 35-36 тысячелетий (см.: Хрисанфова, Перевозчиков, 1999. С. 86; Зубов, 2004; Дороничев, Голованова, 2004; Герасимова, Астахов, Величко, 2007. С. 181¬186).
Анафема в печати. Анафема историографическим трудам А.А. Формозова (РА. 2006. № 3. С. 165-181), несомненно, с особой оценкой войдет навсегда в библиографию дисциплины. Сам Формозов, на мой взгляд, тут в очередной раз ошибся, усмотрев в этом акте «организованную кампанию» (письмо от 10.07.2006). Думаю, каждый из пятерки авторов действовал сам по себе, следуя собственным побуждениям.
Печально, хотя и объяснимо, отсутствие у пожилых людей иммунитета против участия в неприглядном коллективном «действе» — «избиении» связанного «преступника». Ведь самому обвиняемому возможность выступления не была предоставлена ни в этом, ни в последующих номерах «Российской археологии». Мне не ясна позиция более молодых людей, так или иначе причастных к этому прискорбному инциденту. Им, не испытавшим в полной мере деформирующего давления коммунистического режима, вероятно, понятно, что в целом «действо» не вписывается в нормы современной цивилизации.
За 70 с лишком лет моего археологического стажа я накопил немалый опыт психолого-исследовательского распознания больших, средних и малых служителей археологии. Вот и двух из пяти «бойцов», выступивших в печально памятном номере «Российской археологии», знаю еще со времен их «археологической девственности» намного больше, чем это полезно для здоровья. Поэтому надеюсь, читатели меня простят, что погружаться здесь в подробный разбор «действа» я не хочу. Тем более что и «листаж» тут нужен совсем другой. Скажу лишь, что А.А. Формозов, конечно, не был святым, впрочем, как и судящие его «отцы-академики». К сожалению, он сам иногда осложнял отношения с людьми своей прямотой. Но самое главное в человеческой сущности А.А. Формозова определяется тем, что он был нестяжателем, представляя собой очень значительное в русской истории, а сейчас начисто утраченное, духовное явление. Его пожизненное бескорыстие в науке, подчинение себя строжайшей этике, действительный гуманизм, как и глубокий патриотизм, предстают в целостности, исключающей оговорки и поправки. Предельно показательно, что при самых надрывных усилиях критиков А.А. Формозова, им не удалось выявить в его полувековой службе ни единого случая не то что прямого участия, но даже косвенной связи со сферой корысти, обмана, жульничества и карьеризма.
Не могу в этой связи обойти из всего объема сказанного «отцами-академиками» в адрес Формозова лишь одного. Эффект при «передозировке ядов» всегда противоположен ожидаемому. Вот и тут, несмотря на близкое к профессиональному мастерство и драматургию отдельных «литературно-психологических ассоциаций», вслед за К.С. Станиславским могу воскликнуть лишь одно: «Не верю!».
А еще сожалею, что моя поддержка в тот момент поневоле была лишь «телефонной». Однако, как это ни странно прозвучит, своевременная «медвежья услуга» была оказана одним из гонителей. Вот ведь удивительная вещь! Ну какая нужда была в ситуации «коллективного действа» упоминать известное всем наизусть с детских времен лермонтовское стихотворение, более того — выносить хрестоматийную строчку в эпиграф? Ведь любой откликнется сразу: «Погиб поэт! — невольник чести — // Пал, оклеветанный молвой.». И далее, как говорится, по тексту, вплоть до последнего слова «кровь». Так, когда никто из коллег не помог А.А. Формозову, за него вступились (да как!) горячо любимые им классики — Пушкин и Лермонтов. Вот уж, действительно, мистика.
При всех осложнениях, история познания свидетельствует, что со временем все незыблемо ставится на свое место. В перспективе решающим является то, что именно Формозов стал основоположником историографии отечественной археологии в целом, первым заговорил о масштабе тяжелейших потерь в нашей профессиональной среде в 20-40-х гг. ХХ в., выполнив наш общий нравственный долг перед репрессированными коллегами, и этот факт никакому редактированию не подлежит.
Не подлежит, хотя, как бы мужественно Формозов при этом ни держался, свою негативную роль это «действо» в его судьбе, безусловно, сыграло.
О вкладе А.А. Формозова в отечественную науку и культуру
Изначально определив свою специализацию — первобытная археология, — Александр Александрович Формозов более полувека своего труда посвятил обогащению источниковедческой базы истории каменного века, и не просто раскопкам, а теоретическому осмыслению открытых памятников. При этом, как уже отмечалось, многое в его жизненном пути было необычным, далеким от привычного стандарта. Так, начинающий ученый вел очень ответственные раскопки палеолитической стоянки палеоантропа в балке Староселье (под Бахчисараем). Итогом полевых работ крымского цикла (1952-1956 гг.) было, помимо сенсационного открытия погребения в Староселье и связанного с ним комплекса, изучение мустьерских стоянок в Кабази и навесе Холодная балка под Симферополем. Их совокупность позволила Формозову поставить вопрос о локальных вариантах мустьерской культуры в горном и степном Крыму. Завершился этот период изучением впервые выявленной в регионе неолитической стоянки в балке Каля-арасы.
Следующим полевым предприятием явились уже упоминавшиеся объединившие нас восьмилетние, масштабные археологические работы в Прикубанье. Раскопками неолитического (Нижнешиловская стоянка) и энеолитических комплексов (древнейшая крепость Мешоко, поселение Скала, навесы Хаджок I и III, хутор Веселый, Ясенова поляна), по существу, была заложена источниковедческая база изучения поселенческих памятников названных эпох в этом регионе. В эти годы Александр Александрович, которого всегда чрезвычайно увлекала индивидуальная разведка, оставлявшая его наедине с природой (несмотря на явную опасность одиночного странствия в карстовой зоне), выявил ряд местонахождений ашельских орудий и открыл верхнепалеолитические стоянки (Каменномостская пещера, Губские навесы) большой научной значимости.
Основную научную тему исследовательских разработок Александра Александровича в области каменного века составляла структурно и хронологически сложная проблема локальных вариантов и этнокультурных областей эпохи палеолита. В финале она логически дополнилась темой локальных вариантов и системы периодизации комплексов мезолитических стоянок.
А.А. Формозова, в силу его духовного диапазона, никак не удовлетворял тот ущербный стандарт изучения культур каменного века, который установился в первобытной археологии примерно в середине XX в. Стандарт, который догматически ограничивал цель каждого конкретного исследования лишь сугубо формальным анализом индустрий, обычно поглощающим около 90 % сил и времени ученого.
В отношении общей оценки этого цикла его работ наиболее основательным представляется заключение А.Н. Сорокина: «.. ни один отечественный археолог второй половины XX в. не внес столь же существенного вклада в археологию каменного века, как А.А. Формозов» (Сорокин, 2004. С. 164).
Итак, Александр Александрович специальность исследователя каменного века полностью реализовал на высоком уровне существенного обогащения науки. Следовательно, в соответствии с установившейся практикой он заслуживал присвоения ему звания доктора исторических наук (в том числе путем honoris causa). А он стойко держался в Институте с 1954 г. (на протяжении более полувека!) в ранге кандидата.
Теперь о другом направлении его деятельности. Мой друг, начиная с поры студенчества (публикации 1950-1951 гг.), много лет с исключительным пиететом, даже исследовательским воодушевлением, погружался в изучение достоверных, хотя нередко и трудно распознаваемых, следов зачатия творчества, возрождая тем самым прозорливые инициативы отечественных предшественников. И в этом случае он как исследователь пошел по особому, совершенно нестандартному пути. Так, вопреки утвердившейся практике опоры археолого-искусствоведческих работ широкого плана в основном на известные публикации, он, не щадя себя, принимает решение об обязательном ознакомлении с каждым изобразительным комплексом в натуре, в контексте природного окружения. И такой, казалось бы, фантастический замысел (представьте себе хотя бы диагональ на карте от петроглифов Карелии — к «личинам» на скалах Амура) был осуществлен, что придало его трудам уникальное ощущение непосредственного восприятия. В итоге А.А. Формозов обогатил еще достаточно скромную библиографию этого предмета пятью книгами. В этой серии особенно выделяются энциклопедические исследовательские «Очерки по первобытному искусству: наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР» (1969), сразу же получившие очень высокую оценку в рецензиях. Нелишне отметить: общее число «искусствоведческих» статей А.А. Формозова — более сорока (!). Столь масштабный и оригинальный научный вклад в изучение мировоззренческого наследия первобытности может оцениваться как в высшей степени значительный итог научной жизни любого исследователя, даже занимавшегося исключительно этой тематикой.
После представления А.А. Формозова в двух его профессиональных олицетворениях — как археолога-каменщика и исследователя «ископаемого» творчества — пришел черед выделения самого главного для археологии Отечества научного направления в исследовательском активе Александра Александровича. Чувство глубокого историзма привело его к заключению о выпадении из структуры современной отечественной археологии осмысления ее собственной истории. Такая, как бы не замечаемая, лакуна неизбежно затрудняла, а то и деформировала раскрытие глубокой связи времен в сложном ходе развития, да и очень ограничивала действенность самопознания дисциплины.
За этим последовала, по выражению Г.С. Лебедева, «титаническая и целенаправленная работа А.А. Формозова», подытоженная фундаментальной, насыщенной конкретным материалом периодизацией археологии России. Тем самым он объективно явился основоположником и первопроходцем истории археологии нашей страны. А насущность такого развертывания дисциплины, знаменующего ее духовную зрелость, убедительно подтверждается динамичностью становления и успешным трудом нескольких исследовательских групп, получавших от основоположника этого знания самую прямую, согретую его авторитетом помощь.
При определении подлинно человеческого измерения личности А.А. Формозова следует особо подчеркнуть его постоянную заботу о восстановлении и сбережении памяти Отечества. Первый аспект ее проявления — это его боль и борьба за сохранение памятников истории и культуры, подвергавшихся массовому уничтожению, во многом спровоцированному установками партийной пропаганды. Официальное пренебрежение этой темой исключало возможности публикаций. Поэтому обобщающий труд А.А. Формозова «Русское общество и охрана памятников» полностью в виде отдельной книги так и не вышел.
Очень существенна для общей оценки нравственных устоев А.А. Формозова другая линия, связанная с персоналиями, судьбами невинно репрессированных деятелей науки. При большой опасности расплаты за подобную «любознательность», эти трудные разыскания проходили через всю его жизнь — от студенческих лет и вплоть до кончины. Итогом такого особо нелегкого труда явилось возвращение в науку имен многих погибших исследователей.
К группе работ, отданных памяти о коллегах, принадлежит и десяток некрологов, опубликованных в журнале «Советская (с 1992 г.— Российская) археология». Среди них особенно выделяется очерк о выдающемся ученом и исключительной личности — Сергее Николаевиче Замятнине. Соединявшая их редкая по взаимопониманию и доверительности дружба очень показательна для этической характеристики А.А. Формозова.
Некоторые написанные им некрологи посвящены не «светилам», а скромным служителям археологии (например, младшему научному сотруднику Х.И. Крис и провинциалу-симферопольцу А.А. Щепинскому).

А.А. Формозов (в центре), М.Д. Гвоздовер (слева) и М.З. Паничкина (справа), 1953 г., экспедиция в Авдеево

А.А. Формозов (ИА РАН), Л.Н. Корякова (ИИА УрО РАН), Н.Я. Мерперт (ИА РАН), Н.К. Стефанова (УГУ), Н.А. Боковенко (ИИМК РАН) (слева направо), Свердловск, 1989 г. Школа молодых археологов Уральского региона
А.А. Формозов на протяжении более полувека предельно активно отдавал себя любой работе, которая была нужна родному для него Институту. Такое участие в общем деле было для него элементарным долгом, при полном исключении каких-то намерений продвижения по служебной лестнице. Помимо редактирования и рецензирования наиболее ответственных изданий в русле его специализации, одним из постоянных участков его труда были издания Института археологии — «Краткие сообщения» и «Советская археология».
На страницах СА (РА) увидело свет более 60 (!) его публикаций, посвященных как конкретным вопросам науки, так и остро дискуссионным темам. Именно в последнем особенно отчетливо проявлялось свойственное А.А. Формозову «одномерное восприятие» оппонентов, вне зависимости от их чинов и положения. Он без какого бы то ни было ранжирования вел спор и с младшим научным сотрудником, и с академиком. Этот устойчивый принцип Формозова виден из его полемики с Б.А. Рыбаковым 3 и А.П. Окладниковым 4. Не отрицая неоднократных случаев необычно резкой откровенности в выступлениях А.А. Формозова, считаю нужным энергично подчеркнуть, что ни в одном казусе не выявляются какие-то его корыстные интересы и побуждения. Он остается совершенно чистым от любого профанного целеполагания.
«Вне археологии»
В заключение скажу несколько слов о Формозове «вне археологии», отметив сразу же обширность и значительность этого поля… Устойчивая простота внешнего обличия. В этом, как и в иных проявлениях, строгое правило — «ничего лишнего!». Категорическое отрицание всяких соблазнов славы. Следствие — ни одного интервью Александра Александровича Формозова в СМИ, а также исключительная редкость его фотографий. Предметом его безграничного интереса, более того, искреннего увлечения, были явления культуры и искусства.
В комнате на Калужской на него со стены всегда смотрел увековеченный кистью Н. Рериха старик у ночного костра. На столе три тома издательства «Scirra» (!), исчерпывающе представляющие импрессионизм. А при первом же совместном посещении Эрмитажа он по памяти, ссылаясь на дореволюционный каталог Н.Е. Макаренко, назвал мне около тридцати ранее принадлежавших Эрмитажу шедевров мирового значения, проданных за рубеж по дешевке «Тракторэкспортом».
С поры юношества началось увлечение театром, особенно МХАТом (точнее, постановками В.И. Немировича-Данченко). Позднее такой доминантой стал балет, и у него сложилось содружество с кругом Г.С. Улановой. Поклоняясь ее изумительному искусству, он не пропускал ни одного выступления своего кумира вплоть до ее ухода со сцены (1961 г.). Близкое к профессиональному знание балета стало поводом предложить А.А. Формозову постановку «Лебединого озера» в Новосибирске. Однако к моменту болезни мамы ему удалось завершить лишь разработку начальной сцены.
Исключительный диапазон гуманитарных интересов А.А. Формозова невольно рождает мысль о том, что какую-то их часть можно отнести к категории любительских. Прежде всего при этом думается о балете в силу его особой сложности. Однако переписка Формозова с личностью, представляющей это искусство лишь по его отражению, Н.А. Некрасовым («не все читать Вам Бокля…»), свидетельствует обратное. Дилетантизм А.А. Формозову не был дан в принципе! Вот выборка по этой теме из его писем.
В 1951-1952 гг. А.А. Формозов дважды по телефону сообщает мне как о важном событии в его жизни об определении в труппу Молотовского театра, которая планирует разработку постановки «Спящей красавицы».
Письмо от 3.12.1953: «…в балете бываю редко. Уланова более месяца не танцует. Кшесинская сломала ногу…». В открытке от 6.09.1956 благодарит за полученный им «очень нужный перевод книги Марселя Марсо».
Письмо от 23.11.1956: «Английский балет не приехал. Очень тяжкое впечатление оставила катастрофа с Улановой на первом спектакле по ее возвращении».
Записка от декабря 1956 г., переданная с Валерием Алексеевым: «. поймал Дудинскую и Сергеева на “Дон-Кихоте”. 7-го приезжал Валхвостик, в восторге от аттитюдов и фуэте “Спящей красавицы”».
Письмо 12.10.1957: «Порадовала очень хорошая французская балерина Лиан Денде».
Открытка от 13.05.1958 содержит отзыв о приятельнице Леонида Тарасюка, приведшего ее на балет в Мариинку: «Калерия не тянет — самая банальная балеринка. Но Тарасюк очень мил и судит так разумно». Подобными довольно точными, пусть и краткими, ремарками изобилует вся наша переписка.
Особое, нравственно доминирующее положение в сознании А.А. Формозова занимала русская классическая литература. Началось это, что естественно, со сказок Пушкина, который по мере взросления все полнее олицетворял символ светлой воли и творческого духа. Но почему-то и в этом случае только Формозов выбился из общего ряда и исследовал отношение великого поэта к древностям. Его книга «Пушкин и древности. Наблюдения археолога» (издания 1979 и 2000 гг.), а также семь статей получили одобрение «строгих пушкинистов». Думаю, что Институту впору гордиться таким инициативным вкладом в общенациональную область знания, именуемую пушкиноведением.
Ряд его публикаций, посвященных русской литературе середины XIX — начала XX вв. (Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А. Блок, А.Н. Толстой), подытоживается неординарной книгой «Классики русской литературы и историческая наука» (1995).
Исключительна заслуга А.А. Формозова в возвращении в науку трудов выдающегося историка Москвы И.Е. Забелина (два тома и серия статей) и в целом в поддержке идеи краеведческого движения в Подмосковье. А.А. Формозов при первых же встречах в Петербурге поразил меня и моих друзей тем, что в нем мы впервые увидели подлинного патриота Москвы, энциклопедически знающего ее прошлое и заслуженно носящего звание «великий московский интеллигент».
Последние годы
Все нынешнее время, начиная с середины 1990-х, для А.А. Формозова было очень тяжелым, особенно нарастающей, после краткой весны духа, безнравственностью общества в условиях диктатуры денег. В самом финале жизни на Формозова были нацелены трагически-тяжелые атаки. Испытания, предельно критические даже для молодых, представляли масштабные провокации, условно обозначенные выше как «Староселье» и «Анафема в печати». Тем не менее, А.А. Формозов и перед таким страшным двойным ударом мужественно выстоял до последнего утра своей жизни.
Многие десятилетия он не щадил себя в трудах на благо общества и никогда не был озабочен условиями своей жизни, в результате никак не подготовился к наступившей немощи. Впервые в его письмах появляются слова «деньги», «очень дорогие лекарства. операции». С душевной болью перечитываю по-прежнему исполненные силы духа письма А.А. Формозова. Считаю своим долгом в этом памятном издании привести в хронологической последовательности их краткую выборку.
17.11.1999: «На твоих глазах меня вышибли из первобытной археологии, теперь меня вышибают из первобытного искусства». А после примирительной фразы «не упрекаю тебя ни в чем» справедливо ругает меня за оппонирование М.А. Дэвлет в далеком прошлом.
16.04.2003: Именуя меня явно отрицательным в его лексиконе словом «миротворец», он далее переходит к строгому наставлению, заведомо предполагая мой отклик на его уход из жизни. Еще до этого он постоянно ругал меня за статью, которую посвятил его 75-летию. Он категорически требует сдержанности и краткости повествования. В качестве образца приводит примерный текст: «Отношение А.Ф. с коллегами были разными. Многие относились к нему неплохо. Другие же, в том числе люди, определяющие судьбы науки, воспринимали его как человека опасного и мешали его начинаниям». Попутно прибавляет психологически важное замечание: «Письма передают настроение минуты». И совершенно категорично: «Рыбаков не был в моей жизни центральной фигурой… Начало травли положил Бибиков (Староселье), очень много вреда принес Окладников». Далее, раздумывая о причине своей трагедии, находит ключ в суждениях Н.Я. Мандельштам: «Осю убили не ЦК и ГПУ, а его же братья-писатели». И прибавляет критически дружественное в мой адрес замечание: «всегда взваливаешь на себя много лишнего… ты всегда увлекаешься людьми!».
Из Звенигорода, где они с женой провели часть лета 2006 г., критического для его жизни, писал: «все бежали от нас как от огня». То, что «все уходят в кусты», он однозначно определил как «конфликт со всем коллективом». В итоге расценил данную акцию журнала, с которым он сотрудничал на протяжении почти 50 лет, как «надгробное слово, произнесенное российскими археологами». Не соглашусь. Мне очевидна глубокая ошибочность такого заключения, хотя психологические основания для таких мыслей у А.А. Формозова были.
Насколько знаю, в эти же дни он трудился с предельным напряжением, разбирая архив, осуществляя конечную редакцию рукописей подготовленных книг. Состоялась его обстоятельная встреча с А.И. Солженицыным, были и другие дела.
А.А. Формозов никогда не прерывал свой напряженный труд. Так, к примеру, его письмо от 09.08.2008 полностью посвящено проблемам русской историографии в свете прошедших в Петербурге «Спицынских чтений».
Таково весьма краткое представление широты круга глубоких и преимущественно оригинально значимых исследований, которым А.А. Формозов посвятил более полувека своей жизни, представляющей несомненный
научный подвиг. Александр Александрович ушел не в прошлое, а в будущее науки, когда столь ценимая им правда истории сурово и неподкупно все расставит по местам. Оставленное нам богатство творческой мысли и уроки мужественной правдивости А.А. Формозова увековечены более чем в трехстах публикациях, в составе которых 25 книг и брошюр! Большим и радующим событием, свидетелем которого, к большому сожалению, ему не довелось стать, явилась публикация отчетов наших раскопок Государственным Эрмитажем «Мешоко — древнейшая крепость Предкавказья» (2009).
Вместо эпилога
В наши дни, при отнюдь не триумфальном, а скорее близком к кризисному, состоянии археологии страны, особенно актуальным представляется честное, сугубо действенное восприятие завещания, выстраданного А.А. Формозовым. Оно представлено в его статье «Русская археология на грани XX-XXI веков».
Масштабное восприятие действительности позволяет с сожалением подчеркнуть, что при множестве кризисов, переживаемых миром, вообще никак не принимаемое всерьез, происходит, по существу, судьбоносное крушение этической личности. Она уже достаточно близка к своему исчезновению. Несмотря ни на что, хочется надеяться, что социально-нравственное Возрождение человечества состоится. В зарождении такого эпохального процесса особый зачин принадлежит жертвенным поборникам суровой правды, сохранившим в наши дни великие корни духовного бессмертия человечества. Место А.А. Формозова в этой когорте бесспорно.
Благодарю судьбу за то, что она осветила мою жизнь дружбой с этим духовно большим, талантливым, сердечно чистым человеком.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Герасимова М. М., Астахов С.Н., Велич¬ко А.А., 2007. Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания: Иллюстрированный каталог па-леоантропологических находок в России и на смежных территориях. СПб.
Дороничев В.Б., Голованова Л.В., 2004. «Гордиев узел» гоминида из Староселья // Не-вский археолого-историографический сборник: К 75-летию кандидата исторических наук А.А. Формозова. СПб.
Зубов А.А., 2004. Палеоантропологическая родословная человека. М.
Сорокин А.Н., 2004. О мезолите Волго¬Окского бассейна // Проблемы первобытной археологии Евразии. М.
Столяр А.Д., 2004. Мой друг Александр Александрович Формозов. Часть первая (1949-1965) // Невский археолого-историографический сборник: К 75-летию кандидата исторических наук А.А. Формозова. СПб.
Формозов А.А., 2006. Триада жизнедеятельности А.Д. Столяра // In situ. СПб.
Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1999. Антропология. М.
Notes:
- В 1948 г. переименован в г. Жданов. ↩
- При воспоминаниях о Крыме у нас совместно неоднократно рождалась мысль о том, что память о, скажем так, «не совсем земном» Павле Николаевиче Шульце заслуживает особого тома, посвященного ему как личности. Мы были готовы активно участвовать в таком начинании. Но оно возможно лишь при заглавной роли дочери Шульца — Наташи (по профессии она журналист), живущей ныне в Львове. Однако ответом на все наши обращения было полное равнодушие. Загадочно, но воистину непреодолимо. Утрата силуэта П.Н. Шульца в историографии ущербна и печальна. ↩
- Советская археология. 1968. № 2. С. 103-110. ↩
- Советская этнография. 1969. № 4. С. 99-106. ↩





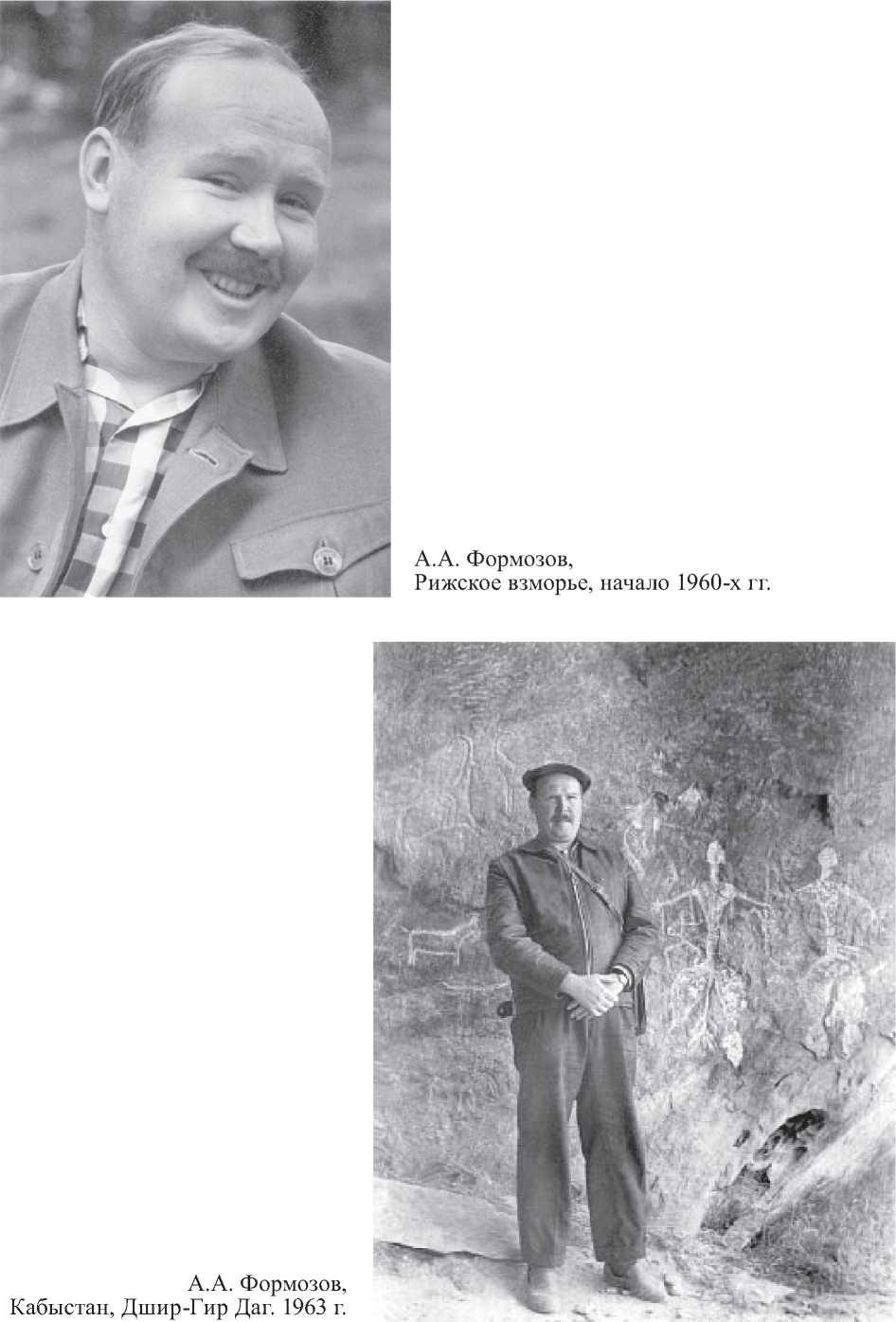

В своё время я был возмущён:
1.Как легко Наша Демо Интеллигенция сразу сдала,без проверки, Старосельский мемориал какой-то второсортной научной отрыжке-и очень доволен по её провалу;
2.Я испытал ОМЕРЗЕНИЕ к завистливой душонке, гадящей на состоявшихся деятелей той области знания, где он вполне очевидно «просел». И Окладников ,и Рыбаков,и Бадер-старший, и Деревянко, и Массон-отец, и Толстов СОСТОЯЛИСЬ В ПОЛНЫЙ РОСТ, как открыватели Археологических Миров.Просматривая его Опус, я с удивлением обнаружил,что сия Особь даже не знает об эпохальных раскопках Б.Рыбаковым Вщижа,ставших методологическим образцом, сорвавшим чудовищные погромы «методик» Городцова, уничтоживших, в частности,Сейминский памятник Сейминско-Турбинской культуры. Несколько восстанавливает справедливость только то, что главный пинок г-н ААФ получил от «своих».
Г-н Столяр как-то занятно трактует справедливость: когда ААФ оплёвывает своих оппонентов — это «дискуссия»,когда 5 ведущих специалистов ставят его на место — это «травля».Опусы, подобные Клейну и Формозову имеют такое же отношение к историографии, как пасквиль к литературе, материал размышлению, по прочтению которого надо вымыть руки.